
1-2
В 1925 году мне очень хотелось поехать на отдых в Крым. Весной, идя по Невскому проспекту, встретила одну соученицу по гимназии, которая была в дружбе с Марусей Заболоцкой, моей одноклассницей.
В разговоре я узнала, что Маруся вышла замуж за поэта Волошина и живут они в Коктебеле, в своем доме на берегу моря, и что Маруся очень хотела, чтобы к ней приехали ее подруги по гимназии. Я сейчас же написала Марусе и очень быстро получила ответ. Она звала нас к себе.
Первая поехала Ксения Эдуардовна Монтвид (ее девичья фамилия) *(К. Э. Монтвид — жена композитора В. М. Дешевова), а я была задержана работой и приехала в Коктебель уже после ее отъезда.
Меня очень интересовало, как это Маруся могла выйти замуж за поэта, так как весь внешний вид ее не предполагал мысли, что ею может увлечься поэт. Я стала расспрашивать всех, кто хоть что-то мог знать о том, как выглядит этот поэт и т. д., но получила весьма странные и невразумительные разъяснения, что он ходит в коротких штанах и длинных рубашках, с венком на голове, что ему минуло 45 лет, что его сейчас не издают, и [пожелание], чтобы я ехала, потому что у них есть где жить и к ним приезжает много народа, а пляж там чудесный.
Из Феодосии я подъехала на линейке к самому дому. Встречать меня вышла Маруся, мы обнялись и расцеловались. Чуть погодя подошел и Максимилиан Александрович. Среднего роста, но широкий в плечах и полный, с крупной головой и уже седеющими пышными волосами, остриженными в скобку. Одет в сандалии, длинную рубаху из белой льняной ткани с круглым вырезом у ворота, подпоясанную ремешком, и из той же ткани короткие штаны, застегнутые на пуговицу за коленом. Лицо породистое и было бы красиво, если б не было слишком полным и обросшим бородой и усами. Рот небольшой и очень изящного рисунка, так же как и нос. Глаза серые, умные и очень холодно внимательные.
Максимилиан Александрович был очень вежлив, я бы сказала, изысканно вежлив всегда и со всеми. Даже кошку Ажину он просил освободить стул, но не сгонял ее, и когда я удивилась этому, то он сказал: “Ведь она же женщина...”
Никогда не повышал голоса, не раздражался и не сердился, за очень редкими исключениями. Когда приезжие рассказывали ему о том, что они слышали о нем и об образе жизни у него в доме, и даже о таких выдумках, как его (Максимилиана Александровича) право “первой ночи” с приезжающими к нему, о том, что он ходит голый в венке из роз, что все живущие в доме одеваются в “полпижамы”, кто в нижнюю часть, а кто в верхнюю, <...> и т. д. и т. п., — Максимилиан Александрович все это слушал с явным удовольствием и никогда ни слова не возражал, как будто все так и было.
Мне всегда казалось, что Максимилиан Александрович создал себе те качества, которые считал нужным иметь, и как бы сделал себе маску, которую и носил не снимая, пряча под ней свои подлинные чувства и мысли, которые не всегда совпадали с теми, какими он хотел, чтобы они были. Очень редко Максимилиан Александрович забывал об этой идеальной маске и нарушал созданный им образ, и это всегда в порыве сильных чувств, которых он не мог сдержать, и мне так казалось, что он сам себе не прощал этих порывов, нарушений созданного образа.
Однажды я была свидетельницей такой сцены на террасе, где обедало человек тридцать. Еще утром Александр Георгиевич Габрический показал мне рисунок, сделанный им с Марии Степановны, разговаривающей с каким-то татарином на вышке дома. Она сидела в очень характерной для нее свободно-гротескной позе, и нельзя было даже этот рисунок назвать карикатурой. “Тебе нравится?” — спросил Саша. “Да, очень похоже, очень хорошо”. — “Ну, ты Марусе не говори, а то она обидится”. За обедом Маруся обратилась к Саше, сидевшему почти против нее, и сказала: “Саша, покажи мне, какую это карикатуру ты на меня нарисовал?” Саша немедленно вынул из блокнота листок и протянул его Марусе. Макс наклонился к Марусе, и они вместе рассматривали рисунок. Вдруг Маруся громко сказала: “Какая гадость!” — и быстро разорвала рисунок. И тут же раздался крик боли, потому что Макс схватил ее руку и укусил ее, крикнув: “Как ты смела разорвать произведение искусства?!” Маруся вскочила из-за стола, понеслась наверх в кабинет, а за ней Максимилиан Александрович. Несколько минут мы все сидели молча, а потом сверху стали слышны спорящие голоса Макса и Маруси, а у нас поднялись бурные дебаты1.
У Марии Степановны Заболоцкой было трудное, тяжелое детство. Отец — поляк, квалифицированный рабочий, а мать — из староверческой семьи, которая ей не простила брака с чужим по вере человеком. Отец рано умер, и мать из милости пустили какие-то дальние родственники жить “в углах”. Был брат Степан, но он ушел в беспризорники и где-то, видимо, пропал.
Мать была туберкулезная, и трудно ей давалась жизнь. Маруся обожала мать, и стала думать, как ей помочь, и решила, что если она отравится, то матери одной будет легче прожить. Марусю брала к себе какая-то добрая женщина-врач на побывке у нее, а Маруся исхитрилась и крала у нее яд. Когда ей показалось, что его хватит, чтобы отравиться, она забралась на чердак того дома, где жила, и отравилась. Кто-то услышал стоны, и ее отходили в больнице. Поразило всех, что самоубийство пыталась совершить девочка 12 лет, чтобы облегчить участь матери, и об этом случае было напечатано в газетах2.
Начальница нашей гимназии Мария Николаевна Стоюнина прочла в газете об этой девочке и поехала узнать, как и чем можно ей помочь. Она устроила Марусю жить в одной знакомой семье и стала готовить ее к поступлению в гимназию. Готовили ее бесплатно наши же учителя. К нам она поступила в 5-й класс уже хорошо подготовленной, была старше нас на два года и отличалась ярко выраженным характером и самостоятельностью своих мнений. Нам она нравилась, и мы завели с ней дружбу. Жила она тогда уже в пансионе Екатерины Ивановны Шмидт, где жило много девочек, учащихся старших классов. Мать Маруси умерла от туберкулеза еще до поступления ее в гимназию. К концу учебного года Маруся стала хворать, и вскоре мы узнали, что наша начальница отправила ее в Ялту, где она жила и училась. Мы писали ей письма и получали от нее.
Однажды приходит в класс наша одноклассница Лиза Лебедева, держит в руках письмо и со слезами читает, что пишет Маруся, а вот она и дописать письмо не смогла, и твердым почерком взрослого приписано, что Маруся скончалась тогда-то. Мы пришли в волнение, многие поплакали; а когда пришел батюшка на урок Закона божьего, мы ему сообщили, что умерла Заболоцкая. Он расспросил что и как и сказал, чтобы мы остались после уроков, что он отслужит панихиду. На панихиду пришло много учениц старших классов, знавших ее по пансиону, и мы остались всем классом. Пел гимназический хор, мы же дружно плакали.
Но дети есть дети, и постепенно все забывалось. Прошло недели две, и к нам в класс входит наша начальница и говорит, что Маруся шлет всем привет и цветы, что она провожала ее на поезд из Севастополя. Но тут мы все закричали: “Она ведь умерла! Мы панихиду отслужили!” Все это, то есть письмо от Маруси и т. д., было проделкой младшей сестры Лизы Лебедевой, но она в этом призналась не скоро,
Марусе мы писали письма (“Вот как хорошо, что ты не умерла, что ты жива...”), чем ее очень напугали. Вот говорят, что если отслужить панихиду по живому человеку, не зная, что он жив, то ему обеспечено долголетие. Маруся жива и сейчас, ей 83 года *(Воспоминания Л. А. Аренс написаны в начале 70-х годов), пережить ей пришлось немало, и не раз она была очень близка к смерти.
<...> В Коктебеле очень любили ставить шарады и затевали их, к ужасу Маруси, довольно часто, а у нее выворачивали весь гардероб в поисках нужного и делали изумительные костюмы из ничего. Рукава с буфами делались из двух трусиков, роскошная обстановка — из портьер и скатертей и т. д.
Помню шараду “Лампада”, которая была разыграна как целое представление.
Первое — “Лампа” — было поставлено по пьесе “Синяя птица” Метерлинка. В кроватках лежали Тильтиль и Митиль, и они тушили лампу после длинного разговора о том, что они пойдут сейчас навестить бабушку и дедушку.
Второе — “Да” — было разыграно как венчание, где жениха и невесту водили вокруг аналоя, держали над ними венчальные короны, и священник в облачении (бог знает, из чего состряпанном) спрашивал их согласия на брак, и они по очереди отвечали: “Да”.
А целое — “Лампада” — было сыграно как сцена в монастыре, где молится монахиня, но ее одолевают грешные мысли о том, что она обещала ему сделать лампадой знак в окне, и тогда он придет и возьмет, украдет ее из монастыря. Колебания монахини кончаются тем, что она берет лампаду и делает ею условный знак, и тогда в окно влезает очаровательный испанец (это была Мирэль, дочь Мариэтты Шагинян) и увлекает монахиню.
Ставились и живые картины, в которых иногда участвовали и Максимилиан Александрович и Мария Степановна. Я помню их в виде Филемона и Бавкиды3, смотревших умильно друг на друга и отрывавших ягоды винограда от большой кисти, которую держал Максимилиан Александрович.
Ксения Эдуардовна рассказывала мне о шараде “Навуходоносор”, где Максимилиан Александрович в заключительной сцене стоял на четвереньках и делал вид, что ест сено. Предание гласит, что этим кончил царь Навуходоносор.
В то лето [1925 года] в Коктебеле жили Михаил Булгаков с женой, Леонид Леонов, часто приезжал из Старого Крыма Александр Грин. По вечерам Булгаков читал свои вещи: “Собачье сердце”, “Роковые яйца” и другие. <...>
Я не помню всех шарад, я не помню всех спектаклей, их было очень много. Но вот одна оперетта, “Саша-паша”4, мне очень запомнилась, потому что я сама играла в ней одну из жен, “суфражистку”, и пела отличные куплеты, сочиненные Гуной (Ксенией Павловной Девлет *(К. П. Девлет (1890—1976) — преподаватель)), которая не только писала остроумные стихи, но еще, обладая прекрасным слухом, являлась из года в год на всех представлениях “оркестром”, аккомпанируя всем на рояле и иногда с интересом ожидая, в какой тональности запоет стоящий на сцене “артист”, и в случае чего моментально переключалась на то, что надо.
Пьесы не было, на всех репетициях все живо творилось и каждый раз углублялось и расширялось всякими деталями, а пьесу не писали, учили только стихи и куплеты. Принцип был такой: смысл спектакля ясен каждому участнику, и каждый делал возможно лучше то, что мог и умел, к чему подходил, а общую режиссуру вел Сергей Васильевич Шервинский, поэт, прозаик и переводчик.
Сашой-пашой был Саша Габричевский, и было семь женщин, желавших попасть к нему в гарем. [Среди них — и суфражистка.]
Я суфражистка, скажу я вам,
Я окна бью, курю, свищу,
Ни в чем мужчинам не спущу.
Я суфражистка, скажу я вам. |
Одета я была в короткие брюки-гольф, белую рубашку, пиджачок и кепку и выходила с папиросой под бурный аккомпанемент рояля и всяких криков и шумов, издаваемых свободными в это время артистами.
Мужчина женщиной рожден,
Ей всем обязан он.
Так почему ж он наш господин? |
Я подзабыла куплеты, а их было немало, и были относящиеся к тому, что гарем — подходящее место, чтобы в нем поднять восстание и развивать науку.
Лидия Аполлоновна Аренс (1889—1976) — техник-чертежник, мачеха писателя Вс. В. Вишневского. Текст ее воспоминаний дается по рукописи, хранящейся в ДМВ.
1 По воспоминаниям Н. А. Габричевской, этот случай произошел с рисунком Е. С. Кругликовой. Косвенным подтверждением этого является силуэт М. С. Волошиной с надписью Кругликовой: “Маруся, дорогая! Что ж делать, если ты такая!”
2 О случае с двенадцатилетней Марусей Заболоцкой рассказала писательница Е. А. Колтоновская в очерке “Детская драма” (в петербургской газете “Новости”).
3 Филемон и Бавкида — герои древнегреческого мифа, пересказанного Овидием в “Метаморфозах”, синоним неразлучной пары старых супругов.
4 Оперетта “Путями Макса” (или “Саша-паша”) была поставлена в Коктебеле в августе 1926 года.
1-2
 Не в свитках бурь... (Волошин М.А.) | 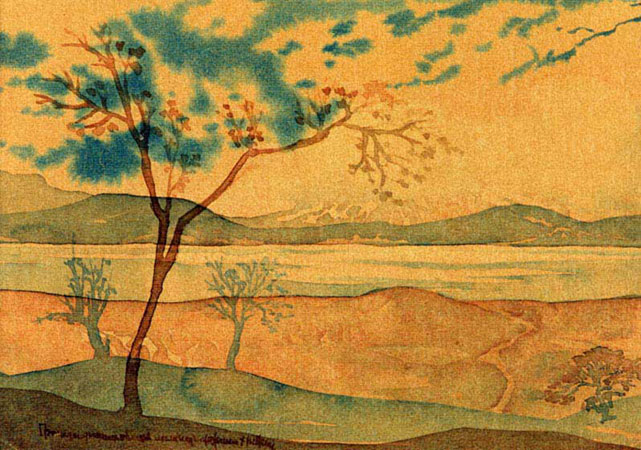 Громады дымных облаков (Волошин М.А.) |  Восход луны встречали чаек клики |